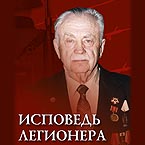Жизнь в Берестенево
После переезда в Берестенево питаться мы стали несколько лучше, чем в Орше, но многого не хватало. Мы давно забыли, что такое сахар. Даже сахарина не было. Скот, куры, свиньи быстро исчезали из крестьянских подворий: немецкие поборы (а точнее, грабёж) быстро опустошали хозяйства. В основном, продукты (молоко, иногда кусочек сала, мука, хлеб, яйца) поступали от приезжающих на лечение крестьян. Был у нас свой маленький огород, несколько куриц. Была картошка. Какой-нибудь кусочек мяса попадал к нам очень редко. Жили, можно сказать, впроголодь, но явно не голодали. Скудное питание привело к ослаблению наших организмов. Ко мне прицепились ячмени на глазах и страшные нарывы на подошвах ног. Летней обуви не было. Я иногда надевал какие-то тапочки, но летом дети большую часть времени бегали босиком: и в лес, и на скошенный луг с острыми остатками травы, и на стерню сжатого поля. По камушкам на берегу реки тоже бегали босиком. Ноги покрывались цыпками. Подошвы травмировались, царапались.
 У меня начали появляться нарывы то на пятке, тогда хожу на носке, то на носке, тогда ковыляю на пятке. Нарывы большие, размером с пятак. Страшно болезненные. Чего только к ним не прикладывали: и печёный лук, и мазь ихтиоловую, и ещё чёрт знает что, – ничего не давало облегчения. Самостоятельно нарыв долго не вскрывался – кожа была толстая на подошве. Вскрывали скальпелем и выдавливали гной. Орал я при этом страшно. Операционная сестра на руках тащила меня (был я худой и лёгкий) через больничный двор домой, а я плакал от боли и стыда, что меня, уже большого мальчишку, таскают на руках. Было очень больно и досадно, что мне ещё несколько дней не придётся бегать с ребятами. А через некоторое время всё повторялось снова. Истощённый организм не справлялся с инфекций самостоятельно. Другие дети были покрепче, на них травмы, синяки, царапины заживали значительно быстрее и, как правило, не требовали медицинского вмешательства. Зато, какая была радость, когда болезнь отпускала!
У меня начали появляться нарывы то на пятке, тогда хожу на носке, то на носке, тогда ковыляю на пятке. Нарывы большие, размером с пятак. Страшно болезненные. Чего только к ним не прикладывали: и печёный лук, и мазь ихтиоловую, и ещё чёрт знает что, – ничего не давало облегчения. Самостоятельно нарыв долго не вскрывался – кожа была толстая на подошве. Вскрывали скальпелем и выдавливали гной. Орал я при этом страшно. Операционная сестра на руках тащила меня (был я худой и лёгкий) через больничный двор домой, а я плакал от боли и стыда, что меня, уже большого мальчишку, таскают на руках. Было очень больно и досадно, что мне ещё несколько дней не придётся бегать с ребятами. А через некоторое время всё повторялось снова. Истощённый организм не справлялся с инфекций самостоятельно. Другие дети были покрепче, на них травмы, синяки, царапины заживали значительно быстрее и, как правило, не требовали медицинского вмешательства. Зато, какая была радость, когда болезнь отпускала!
Однажды отец привёз мне из Орши целую стопку книг. Он купил их на базаре. Это были повести и рассказы Н.В.Гоголя ещё дореволюционного издания. Книга сохранилась и является для меня исторической памятью.
Эти повести и рассказы Гоголя, книжка с рассказами А. С. Грина, сочинения Ф.Купера и др. скрасили многие зимние дни и вечера, когда разрешалось зажечь керосиновую лампу (керосин был в дефиците) или хотя бы плошку-коптилку. Моё учение в 1942 и 1943 годах этим и ограничивалось. Попытки что-то писать, считать быстро заканчивались. Во-первых, на улице ждали друзья с тысячью дел и детских забав. Во-вторых, ни тетрадей, ни карандашей, ни учебников, ни, тем более, желания не было. Зато приобреталось множество других полезных житейских навыков.
Шло время. Немцы в деревне появлялись редко и не задерживались. Полицейского поста тоже не было. Полицаи периодически приезжали на телеге, пили у кого-нибудь самогонку, а потом с гиком, криками и песнями гнали лошадь галопом и палили в воздух из винтовок.
Сергей Вакар. Будущий белорусский скульптор
Вспоминается ещё один эпизод того времени. Однажды у больницы я встретил знакомого мальчишку из Орши. Это был Сергей Вакар. Жил он в 1941 — 1942 годах вместе с родителями и братом на станции Орша в уцелевшем после пожара доме. Был примерно моего возраста. Встречались мы с ним в Орше в разных детских компаниях. И вот летом 1943 года встречаю его у больницы с перебинтованной рукой, с лицом, посечённым мелкими осколками. Сергей ужасно обрадовался, встретив меня, знакомого по Орше. Разговорились. Он рассказал, что у него в руках взорвался немецкий капсюль-детонатор. Я знал, что это такое. Это трубочка примерно 6-8 см длиной и толщиной с карандаш. Она наполовину заполнена взрывчатым веществом, детонирующим от искры бикфордова шнура. Детонатор вставляется в толовую шашку, которая взрывается при срабатывании детонатора. Не помню, что он делал с детонатором, но он взорвался у него в руках. Взрыва хватило, чтобы пальцы превратились в кровавые ошмётки. К счастью, мелкие осколки не попали ему в глаза. Раненого мальчишку привезли из Орши в Берестенево, в больницу. Лихачёв удалил ему, где целый, а где кусок пальца, которые восстановить было невозможно. Я и сейчас вспоминаю, какой восторг был написан на его лице, когда он увидел меня. Он ведь был в Берестеново совсем один со своей болью, с сознанием того, что стал инвалидом. Мы с ним встречались несколько раз, разговаривали.
В 1944 – 1947 годах я учился с его братом в одном классе. Он мне рассказал, что Сергей учится в Минске в художественном училище и будет скульптором (без пальцев!?).
Много позже (в 1960-х годах) в Минске я встретил Сергея на улице. Оба были рады встрече. Поговорили. Сергей рассказал, что стал скульптором, у него своя мастерская в Минске, выставляет свои работы на выставках. Скульптура белорусского писателя Максима Богдановича в сквере у Оперного театра – это его работа. Как он умудряется лепить свои скульптуры без пальцев, я выяснять постеснялся.
Фото 5-2. Памятник белорусскому поэту и писателю Максиму Богдановичу в Минске у Оперного театра. Памятник открыт 9 мая 1981 года. Скульптор – Заслуженный деятель искусств Беларуси Сергей Вакар.
Немцы выселяют жителей Берестенево
Прошёл 1942 год, весна и лето 1943 года, наступила осень. Линия фронта переместилась к западу и проходила теперь километрах в десяти-пятнадцати от Берестенево. Со стороны города Дубровно, который располагался километрах в восьми восточнее Берестенево на берегу Днепра, постоянно доносилась артиллерийская канонада, то усиливаясь, то ослабевая. Какие-то события накапливались, атмосфера сгущалась. Выше деревни немцы построили через Днепр деревянный мост, но местных жителей через него не пропускали. Около моста на заливном лугу левого берега Днепра нарыли траншей, построили в несколько рядов проволочные заграждения.
В один из осенних дней в Берестенево приехали несколько немецких машин с солдатами. Оцепили деревню. Одна машина с кузовом и легковая машина остановилась на улице около больницы. На колонне у входа в здание больницы установили громкоговоритель. Начали проигрывать песни. Помню припев одной из них: «Тула, Тула, Тула я, Тула родина моя». Большинство песен были жаргонно-блатными и антисоветскими. Жители и обитатели больницы почувствовали неладное, какую-то беду. Немцы ходили по деревне и в принудительном порядке сгоняли всех к больнице. Когда народ собрался, выступил немецкий офицер. На ломаном русском языке сказал, что с целью безопасности гражданского населения жители деревни должны переселиться в другое место, подальше от фронта. С собой взять только ручную кладь. Время сбора такое-то. Поднялся вой, крик. Немец спокойно уселся в машину и стал ждать окончания назначенного им срока. Опять включили музыку, чтобы было веселее выполнять его приказ. Лихачёву, начальнику больницы, он сказал, что больница, больные и обслуживающий персонал могут остаться. Какая-никакая больница и обслуживающий персонал им были нужны на всякий случай. В случае необходимости с больными они могли разделаться в течение 10 минут. Разрешили остаться ещё 2-3 семьям из деревни, которые работали в больнице. Жители бросились к домам собираться и припрятать, если удастся, своё добро. В деревне был один мужик – столяр. В маленьком кирпичном домике, оставшемся ещё с колхозных времён, у него была столярная мастерская. Отец с ним общался по каким-то делам. Я тоже частенько бывал у него в мастерской. Интересно было наблюдать, как он строгает доски, распиливает их на бруски, делает рамы. А какой был запах свежих стружек! И сейчас, когда столярничаю на даче, частенько его вспоминаю, вдыхая запах сосновых стружек. В день выселения жителей Берестенево я почему-то оказался у него в мастерской. Он интенсивно работал, хотя мне показалось, что он только делал вид, что работает. Не зная, что затеяли немцы, он на улицу не выходил. Попросил меня пойти узнать, что происходит. Я 2-3 раза бегал, что-то узнавал и сообщал ему. Но родители меня выловили из толпы и приказали немедленно идти домой и сидеть там, не высовываясь. Было опасение, что немцы будут хватать всех подряд и увозить.
Жителей Берестеново посадили на машины и увезли в сторону Орши. Говорили, что их разместили в каком-то лагере под Оршей. Там они провели осень, зиму и весну 1944г. От холода, недоедания, болезней многие из них погибли. В деревне остались заколоченные дома, брошенный нехитрый скарб.
Пришла весна 1944 года. Чувствовалось, что на фронте растёт напряжение, так как интенсивнее стала слышна канонада. Стали чаще появляться немцы, не задерживаясь в деревне. В больницу больные продолжали приезжать лечиться, иногда издалека: из Орши, из-за Орши. Лихачёв делал операции. Некоторые выздоравливали и уезжали, а некоторые навсегда оставались в сосновой рощице, где возникло кладбище.
Немцы в Берестенево и около
Весной, когда сошёл снег, но вода в реке ещё не вошла в обычные берега, немцы приехали глушить рыбу. Напротив Берестенево (на левом берегу Днепра) в Днепр впадает речушка. Летом это совсем маленькая речушка, а весной она разлилась от подпора воды Днепра. С нашего берега было видно как приехала немецкая машина. Из неё вышло несколько офицеров и пара солдат. Подошли к речушке, поговорили, помахали руками. Потом офицеры отошли к машине, которая стояла на удалении от речушки. Один солдат остался недалеко от речки. Мы с любопытством наблюдали за происходящим с противоположного берега Днепра, гадая, что же там затевают немцы. Немец-солдат в чём-то покопался, вдруг взмахнул рукой, бросил в речушку гранату и сразу упал на землю. Мы со страху тоже бухнулись на землю. Раздался взрыв в воде. Немцы подошли, посмотрели, ушли на своё место. Бросил солдат вторую гранату. Опять подошли, посмотрели, поговорили, ушли к машине и уехали. Глушенной рыбы в речке они не увидели. Как я понял значительно позже, и не могли увидеть. От сильного взрыва в воде у рыбы лопаются воздушные пузыри, регулирующие плавучесть. Она тонет и оседает на дне реки. Только когда она начнёт разлагаться, газы заставят её всплыть, но в пищу, она уже не годится.
Следует сказать, что почти все мало-мальски пригодные для топлива деревья парка за последнюю зиму больница сожгла. Громадные сосны, некоторые дубы, росшие на берегу Днепра, тоже были спилены и сожжены. От красивых аллей у бывшей барской усадьбы остались только воспоминания. Запаса дров, заготовленных летом и осенью 1943 года, не хватило для отопления больницы. Жители Берестенево, которые раньше помогали выполнять эту работу в тёплое время, немцами были выселены. Зимой рубить деревья в лесу и перевозить их на санях, было невозможно. Последние осень, зиму и весну немцы интенсивнейшим образом уничтожали лес, росший широкой полосой вдоль Днепра от Орши до Дубровно. Ровненькие брёвна одинаковой длины складывали в штабеля, а потом увозили. Это самым пагубным образом сказалось впоследствии на гидрологии Днепра. Снег теперь не задерживался в лесах, быстро таял и смывал в Днепр верхний слой почвы. Днепр обмелел, затянулся илом. Если раньше через слой быстро бегущей воды можно было любоваться отшлифованной галькой на дне, то в послевоенные годы всё покрылось толстым слоем ила и всяких прочих осадков. После войны мы рыбачили с отцом недалеко от Берестенево. Я попробовал войти в воду и сразу увяз по колено в вязком иле.
В мае в Берестенево приехала целая колонна немцев. Расселились они в крестьянских домах. Занялись интенсивным истреблением грачей и диких голубей. Грачей было великое множество на оставшихся от барского парка тополях.
В это время грачи гнездились, откладывали яйца. Стоял непрерывный грачиный гвалт. Одни немцы полезли на тополя собирать грачиные яйца, при этом безжалостно разоряя гнёзда. Другие (офицеры) достали малокалиберные винтовки и стали добывать взрослых грачей и голубей. Делали это они очень интенсивно и азартно. Видно, очень проголодались. Добычу быстро обработали, сварили и сожрали. Уцелевшие грачи продолжали летать над разорёнными гнёздами, кричали, не понимая, чем они не угодили людям, ведь столько лет спокойно жили в этих местах, выводили птенцов, радовались жизни.
Немцы в деревне базировались около месяца. Нас не трогали, занимались своими делами. Потом внезапно уехали, побросав (или забыв) даже кое-какие свои вещи: около дома, где жил офицер, я нашёл несколько хороших сапожных щёток, которые служили нам ещё долгие годы (может быть потому, что у нас ещё долго не было обуви, которую нужно было чистить щётками?).
В один из дней приехали на бронетранспортёре немцы, собрали в кучу на противоположном от деревни берегу Днепра все лодки и разнесли их в щепки из крупнокалиберного пулемёта. Но несколько покалеченных лодок вырвалось из этой кучи, и их, полузатопленных, понесло течение в нашу сторону. Пара лодок застряла в траве и кустах на тиховодье. Когда немцы уехали, мы эти лодки подтянули к берегу, заткнули дырки паклей и ещё долго катались и перевозили больных с берега на берег.
Напряжённость нарастала. Больные привозили всё новые тревожные слухи. Было видно, что немцы, изредка появляющиеся в деревне, озабочены и насторожены.
Бегство немцев и их приспешников
И вот во второй половине июня в стороне Дубровно так загрохотало, что в окнах стали позвякивать стёкла. На горизонте в стороне фронта можно было заметить тучи (буквально тучи!) самолётов (наших!), летящих бомбить немцев. Стали слышны мельничные звуки, знакомые нам по оршанскому обстрелу. Что это «Катюши», мы узнали, конечно, уже после войны.
Надо рассказать ещё об одном интересном эпизоде. В те дни, когда стала слышна сильная канонада, но в деревне было ещё относительно спокойно, мы с отцом поставили на ночь закидушки на налимов. Утром, ещё до восхода солнца, пошли их снимать. Было темновато, над рекой стелился туман. Около края деревни (вверх по Днепру) увидели у берега в тумане какое-то довольно большое сооружение, которого вечером не было. Подошли ближе и увидели, что это металлический катер с рулевой рубкой, мачтой, окошечками. На катере, который к берегу прибило течением (вероятно, в Дубровно во время бомбёжки его оторвало от причала и унесло течением), копошился один из оставшихся в деревне жителей. Немцев не было. Я тоже забрался на катер. Как всё было интересно! Оружия я не видел, но всяких интересных и, возможно, полезных вещей было много. Отец приказал ничего не брать. Местный житель делал на катер, наверно, уже не первую ходку. Он интенсивно шарил по палубе, рубке и каюте. Мы с отцом полюбовались катером, и пошли по своим делам. Днём приехали на машине немцы, тряханули этого мужика и заставили вернуть всю добычу. Хорошо ещё, что в живых оставили. Катер завели и угнали в сторону Дубровно.
Через день-два после начала интенсивной канонады, в деревню въехала вереница подвод. На подводах были набросаны мешки, тряпки, какие-то вещи. На мешках сидели женщины с детишками. Управляли подводами мужики с белыми повязками на рукаве, с винтовками. Вид у них был испуганно-ужасный. Они нахлёстывали лошадей, заставляя их бежать побыстрее. Мы поняли, что это бегут полицейские со своими семьями. По основным дорогам они бежать не могли, так как дороги были запружены убегающими немцами и подвергались постоянным бомбёжкам.
На левом (противоположном от нас) берегу Днепра за заливным лугом и горкой проходила дорога Дубровно – Орша. По ней немцы интенсивно отступали – бежали. Машин на дороге нам видно не было из-за горки, но как их молотили штурмовики было и видно и слышно. Они небольшими группами на бреющем полёте (очень низко над землёй) делали свою работу, а возвращаясь назад, пролетали низко над водой со страшным рёвом, переваливаясь с боку на бок, чтобы вписаться в небольшие повороты реки. На чёрных боках мелькали большие красные звёзды.
 Как я после узнал, это были штурмовики Ил-2 или «Чёрная смерть», как называли их немцы. Жуткая и впечатляющая была картина! Это был не 1941 год! Стоило немецкому самолёту появиться где-нибудь в облаках, как тут же на него начинали атаку наши истребители.
Как я после узнал, это были штурмовики Ил-2 или «Чёрная смерть», как называли их немцы. Жуткая и впечатляющая была картина! Это был не 1941 год! Стоило немецкому самолёту появиться где-нибудь в облаках, как тут же на него начинали атаку наши истребители.
Потом в Берестенево появились разрозненные группы немцев. В основном, они ехали на подводах с лошадиной тягой, на мотоциклах. Не задерживались, быстро проезжали в сторону Орши. Все немногочисленные жители Берестенево попрятались: никто не знал, что немцы со зла могут натворить. Но было замечено, что несколько подвод подъезжали за деревней к Днепру и останавливались в кустах. Когда немцы удрали и пришли наши, выяснилось, что немцы топили в Днепре винтовки. Они связали их по несколько штук поясными ремнями и бросили в воду. Добровольцы быстро определили место затопления и достали винтовки из воды, не упустив случая припрятать кое-что для себя. Нашлись охотники пострелять. На берегу Днепра можно было услышать винтовочные выстрелы. Это любители глушили рыбу, стреляя в воду. Мелкая рыбёшка действительно всплывала вверх брюхом на непродолжительное время.
Все со страхом ждали, когда боевые действия докатятся до нас. И дождались. Вдруг загорелся один из домов в деревне, другой, третий… Доносились глухие одиночные выстрелы с другого берега Днепра. Это немецкие снайперы засели на горушке в кустах на левом берегу и стали один за другим поджигать дома в деревне зажигательными пулями. Стреляли по всему живому и двигавшемуся. Один больной пошёл в туалет, который был на некотором удалении от кирпичного здания больницы. Только он закрыл дверь туалета, как раздался крик, дверь распахнулась, из туалета буквально вывалился больной и, волоча ногу, пополз к больнице. Снайпер, к счастью, попал ему только в ногу. Немец, наверно, злорадно смеялся, наблюдая эту картину через оптический прицел. Мы жались к стене кирпичного дома, противоположной Днепру. К окнам подходить боялись. Вся деревня пылала. Загорелась пуня – сараи, где лежал запас сена, и были в стойлах привязаны лошади. Конюхи, несмотря на опасность быть убитыми, бросились отвязывать лошадей и выводить их в безопасное место. Спасло конюхов и лошадей, по-видимому, то, что от горевших домов и сараев валил густой дым и скрыл их от снайперов. Телеги тоже удалось спасти.
Мы находились в состоянии страха и дальнейших бед. Немцы усиленно трезвонили, что если они вынуждены будут уйти, то оставят после себя только выжженную землю.
Во второй половине дня со стороны леса послышался треск мотоциклов. Остановились они недалеко от нас около кустов. Несколько военных в камуфляжной форме (не похожей на немецкую) прошли вперёд, не удаляясь от кустов, и стали в бинокли рассматривать противоположный берег, откуда стреляли немцы. Нас они видели, но не подошли. Мы поняли, что это наши военные, и не знали, радоваться нам или ждать, что окажемся непосредственно в зоне боевых действий. Военные понаблюдали, сели на мотоциклы и уехали.
Радость освобождения
Через некоторое время появились наши солдаты, офицеры с погонами (мы такого ещё не видели!). Появился офицер, который начал проводить беседы с жителями, объясняя ситуацию, так сказать, возвращал к советскому образу мышления, внушал, что мы освобождены окончательно и бесповоротно. Радость наша была неописуемой, но у взрослых, мне кажется, была некоторая настороженность: как оценят пребывание в оккупации, почему не эвакуировался, почему не сражался с немцами, как вёл себя, почему, в конце концов, не погиб?
Нужно было срочно строить планы на будущее, собираться переезжать в Оршу. По Днепру в сторону Орши плыло много лодок, плотов с солдатами. Даже срубы домов приспосабливали для плавсредств. Несколько венцов деревянного дома, поставленного на слой брёвен плота по верху были застланы досками. На них сидели солдаты со своими имуществом, с оружием. Всё это по течению медленно и неуклюже двигалось в сторону Орши. Думаю, что срубы сплавляли с единственной целью – готовый материал для восстановления мостов, так как в качестве транспортного средства они выглядели уж очень примитивно. Вода у левого и правого берегов Днепра там, где была трава и тиховодье, оказалась покрытой глушенной рыбой в метр-два шириной. Рыбу несло течением со стороны Дубровно. Рыба уже разлагалась. У реки стояла невыносимая вонь.
Воинские подразделения проходили через Берестенево непрерывно. Помню, солдаты оставили больнице раненую лошадь. У неё была прострелена морда. Когда она пила воду из реки, вода струйкой выливалась через дырочку. Одну здоровую лошадь забрали.
Печальную картину представляла собой сгоревшая деревня: опять череда печей с торчащими трубами и тлеющие головешки. Мы удивлялись, почему немцы не подожгли больницу? Пожалели? Вряд ли. Мы обследовали чердак больничного дома. Там была насыпана земля для теплоизоляции. На толстых балках были следы пуль, но они рикошетили, а запаса горючего вещества в них, наверно, не хватало, чтобы перекрытия и балки загорелись.
Через пару дней пришли вести, что Орша свободна. Это было 27 июня 1944 года. Лихачёв, отец, ещё кто-то сразу же выехали в Оршу искать новое место для больницы.
Снова в Орше
Через день или два мы погрузили свой нехитрый скарб на телегу и вместе с другими семьями отправились в путь. Дорога до Орши теперь проходила по вырубленному немцами лесу. Кое-где виднелись ещё не вывезенные штабеля брёвен.
Орша была в развалинах и остатках пожарищ. Меня поразили валяющиеся повсюду снаряды, которые солдаты сносили в одно место. Встречались кучи разных патронов, пулемётных лент, ящиков от этих лент. Никто это не охранял, подходи и бери, сколько хочешь. Проехали мимо буквально разваленного на куски советского танка, рядом с которым была свежая могила с фанерной красной звёздочкой на палке и прибитой к ней фанерке с надписью. Невдалеке стояла немецкая самоходная пушка («Фердинанд»?). Как нам уже позже рассказали местные жители, немецкая самоходка стояла у перекрёстка дорог (была без горючего?). В выскочивший из-за поворота дороги наш танк она всадила снаряд. Танк взорвался со всем боекомплектом. Танк разворотило полностью, весь экипаж погиб. Но и в боку самоходки зияла дыра от снаряда, явно советского. Она сгорела, так как вся краска на ней была обуглена. Это, наверно, была работа нашего танка, двигавшегося по другой дороге к перекрёстку.
Приехали в железнодорожную больницу, где до войны Лихачёв был начальником и главным хирургом. Немцы свой госпиталь успели эвакуировать, хотя кое-что из имущества осталось. Лечебные корпуса, вспомогательные здания, сараи, гараж были целы.
Треть одного лечебного корпуса в своё время немцы сожгли. Весь корпус не сгорел потому, что ещё при постройке здания были разделены двумя сплошными кирпичными стенами (брандмауэрами) с прочными обитыми железом дверьми в коридоре. Немцы восстановили этот кусок здания, но не использовали брёвна. Они стены сделали из досок и засыпали шлаком. Внутри комнаты и палаты были обиты толстым пористым картоном. В комнатах были установлены симпатичные щёлкающие выключатели, электророзетки, блестящие водопроводные краны и раковины. Больница эту часть здания долго не осваивала (хватало других зданий; больных было не очень много, так как больница была ведомственная, железнодорожная, а остальных больных помещали в городскую больницу). Да и жителей в посёлке было немного. Пустующие помещения больницы мальчишки использовали для своих игр. Одновременно, то мы (пацаны), то кто-то из взрослых сворачивали краны, откручивали выключатели и розетки. Одна розетка сохранилась у меня до сих пор. Варварски мы поступали с имуществом по своей глупости.
На новом месте жительства
Отец нашёл нам жильё. Это была двухкомнатная квартира с тёмной кладовкой, прихожей и сарайчиком, прилегающим одной стенкой к дому. Этот дом строился тогда, когда строилась больница. Он был из досок, между которыми был засыпан шлак. Снаружи отштукатурен. Штукатурка потрескалась, местами осыпалась, крыша вся в дырах. Дом и до войны и теперь предназначался для обслуживающего персонала больницы. В доме было четыре входа в квартиры и комнаты. Всего в этот дом поселилось семей пятнадцать. У нас вход был отдельный. В этой квартире до войны жил заместитель начальника больницы (зам. Лихачёва), хирург Брозголь. В то время его квартира имела четыре комнаты, был водопровод и канализация. Теперь квартира была, конечно, разграблена. Всё, что осталось от немцев, было вынесено или поломано. Хорошо, что уцелели окна, двери и отопительная печь. Был под полом погреб для продуктов.
Стали обустраиваться. В одну комнату поселились бабушка и тётя, в другую – мы втроём. Отец где-то достал большие листы прессованной толстой фанеры (вернее, картона), натянул через комнату кусок немецкого телефонного кабеля, прикрепил к нему два куска картона, между которыми оставил проход. Получилась перегородка между «спальней» и «залом-кухней». В спальне поставили три металлические кровати, на них положили доски, на доски тюфяки с соломой: это добро оставили немцы, правда, с клопами-фашистами. Сколько они нашей крови попили! Застелили кровати бельём-тряпками да потёртыми одеялами. Нашли пару столов, табуретки, скамейки, которые до использования пришлось починять. Позже печник поправил печь и сложил две плиты для готовки у нас и у бабушки. В этой квартире мы прожили более восьми лет.
Перед домом был ещё немецкий огород. В нём сохранилась кое-какая зелень и овощи. Впервые я попробовал с этого огорода кольраби. Для меня это была диковинка. В последующие годы огород всегда был для нас большим подспорьем. Мы его потом расширили: вскопали целину, выкорчевали пни от елей.
Больница быстро налаживала свою работу. Отец организовал аптеку и стал заведовать ею. Теперь лекарства он получал централизованно. Заработал водопровод, но в колонку за водой мне приходилось ходить с вёдрами и коромыслом. Опыт Берестенево пригодился.
Первые дни в освобождённой Орше проходили в суете. Возвращались жители, пытались найти жильё и новые люди, заброшенные сюда судьбами войны. Все искали кров, пытались обзавестись необходимыми вещами, найти, прибрать к рукам что-то полезное. Бывшие немецкие обиталища были уже по нескольку раз профильтрованы местными жителями: полезное забрано, ненужное разломано и разбито. Мальчишки шарили по окрестностям наравне с взрослыми, а иногда и более интенсивно. Вокруг были тысячи соблазнительных вещей, которые могли сойти за игрушки. Можно было найти оружие, снаряды, патроны, порох, взрывчатку, детонаторы, бикфордов шнур, гранаты и многое другое.
Сразу за оградой больницы стоял большой барак, построенный немцами. Строили они для себя быстро и добротно. Привозили откуда-то щиты-стены из досок, между которыми был утеплитель. Пол, потолок, крыша, двери, окна — всё было готовое, подогнанное друг к другу. Нас, пацанов, удивляло, что даже разнокалиберные гвозди были в аккуратных пачках (иногда удавалось такую пачку гвоздиков стянуть, конечно, подвергаясь большому риску). Вот такой барак был за забором. Я его обследовал. В пустых комнатах всё было перевёрнуто и поломано. В некоторых комнатах уже появились новые жильцы и весело справляли новоселье. У одной из стенок барака я обнаружил велосипед с повреждённым одним колесом. Велосипед был явно ничейным! Но я по глупости не взял его, не припрятал, а побежал за отцом. Но когда мы пришли, велосипеда уже не было. Не один я исследовал окрестности. Велосипед у меня появился года через два, и то с дамской рамой, что вызывало насмешки сверстников. Но это не мешало мне в весёлой компании носиться по улицам, ездить на речку купаться.
Больница была построена в лесу. Деревья по возможности сохранили при строительстве. На территории росло много больших елей, могучих дубов (некоторые из них сохранились до сих пор), были и кучки небольших (в рост человека) ёлочек и кустов.
 В одной из таких ёлочек мы обнаружили, что торчит в глубине ёлочки какая-то симпатичная палочка с крышечкой на конце. Сказали об этом взрослым. В нашем доме жил машинист, бывший партизан Пригода. Он осторожно извлёк находку из ветвей ёлочки. Это оказалась немецкая граната с деревянной ручкой. Граната оказалась без взрывателя.
В одной из таких ёлочек мы обнаружили, что торчит в глубине ёлочки какая-то симпатичная палочка с крышечкой на конце. Сказали об этом взрослым. В нашем доме жил машинист, бывший партизан Пригода. Он осторожно извлёк находку из ветвей ёлочки. Это оказалась немецкая граната с деревянной ручкой. Граната оказалась без взрывателя.
А другой случай закончился трагически. Приехала откуда-то и поселилась в нашем доме женщина с двумя мальчишками. Одному было лет 7, другому 5. Они, естественно, как все мальчишки шныряли по территории больницы. В одной из ёлочек тоже нашли спрятанную гранату. Старший отвернул колпачок с ручки, там оказался симпатичный беленький шарик – колечко на верёвочке. Младший, как он потом рассказывал, отбежал в сторону и закричал, чтобы старший не трогал ничего. Он, видно, почуял опасность. Старший вытянул шарик, раздался взрыв. Ему оторвало ногу, всего посекло осколками. Кто-то из взрослых схватил его на руки, побежал к больнице, но он умер по дороге. Младший отделался испугом и несколькими лёгкими ранениями. Можно представить себе горе матери!
В один из дней на носилках бегом пронесли в больницу раненого мальчишку. Им оказался мой давний товарищ, с которым мы ещё в довоенные годы в здравпункте отца забавлялись, брызгая друг в друга водой из-под кранов (за что были наказаны). Его спасти не смогли. Оказалось, что он с мальчишками нашёл артиллерийский патрон. Попытался разрядить его, чтобы достать порох. Раздался взрыв, и он получил сильные ранения, от которых по дороге в больницу умер. В соседнем с больницей посёлке на огороде лежал не взорвавшийся снаряд. Несколько малышей, в том числе и девчонок, собрались у этой «игрушки». Какой-то «умелец» притащил молоток и начал колотить по снаряду. Раздался взрыв. Несколько искалеченных детей, которые стояли поодаль, сразу не погибли. Их на телеге успели привезти в больницу. Никто из них не выжил.
Всякие военные взрывающиеся штучки всегда привлекали, тянули, как магнитом, к себе детей. Часто любопытство приводило к трагедиям. Наверно, не было дня, чтобы в больницу не привозили или не приносили покалеченных детей. Для меня это был мощный сдерживающий фактор. Может быть, поэтому и уцелел в то военное и послевоенное время. Но это отпугивало меня только от серьёзных взрывоопасных предметов: снарядов, взрывателей и т.п. Винтовочные патроны, порох, иногда сигнальные ракеты использовались в играх. Например, разряжался винтовочный патрон, отсыпалась половина пороха, пуля загонялась глубоко в патрон, остатки пороха засыпались сверху. Патрон зарывался в землю почти полностью. К нему насыпалась дорожка из пороха и поджигалась. Пока дорожка горела несколько секунд, все бросались врассыпную. Когда порох в замкнутом пространстве гильзы вспыхивал, раздавался взрыв-выстрел, и пуля куда-то улетала. Или целый патрон забивался в землю пулей вниз. На капсюль ставили кончик гвоздя, забитого в доску. По доске ударяли чем-либо тяжёлым. Происходил взрыв. Пуля застревала в земле. Гильзу выкапывали и любовались, как её разворотило взрывом. Было много других способов «забавляться» с винтовочными патронами.
На территории больницы немцы бросили пушку. Это была громадная пушка. Пушка мало была похожа на современные орудия. Уж очень она была неуклюжей. Ствол у неё был диаметром сантиметров 20-30, сравнительно короткий, метра 3-4 длиной. Он размещался в горизонтальном положении (походном?) на лафете с громадными металлическими колёсами. С другого конца лафета были колёса поменьше. Кругом валялись гильзы с порохом, уже распотрошённые. Снарядов не было видно. Наверно, военные с территории больницы их успели убрать до нашего приезда. Эта пушка оказалась у больницы под развесистыми деревьями для маскировки, а не для стрельбы. В 200-300 метрах от больницы на станции Орша-Западная была рампа. Оттуда немцы, наверно, и прикатили пушку. Жёлто-серые пластинки пороха из гильз сантиметров по 20 длиной и шириной 2-3 см горели отлично, не разбрасывая искры. Я набрал их в коробку от немецких пулемётных лент, и бабушка долгое время растапливала порохом печку: положит полоску пороха под дрова – и готово. Порох из гильз пацаны растянули быстро. А пушка вместе с прицепами для её обслуживания, в одном из которых были десятки различных ящичков (увы, уже пустых!) месяца два служили нам интересным местом для игр. Потом приехали военные на автомашинах и увезли их для отправки на переплавку. Большая грузовая машина «студебеккер» с трудом стронула эту пушку с места, изрядно побуксовав.
Работая над этой статьёй, я попытался найти в Интернете фотографии таких орудий. Ни один снимок немецких артиллерийских систем Первой и Второй мировых войн не был похож на эту пушку. Разве только ствол пушки я мог бы отождествить со стволом мортиры. Но лафет пушки никак не был похож на лафет мортиры. Да и зачем немцам нужна была мортира в Орше? Разве что разрушать мосты через реку Днепр в случае прорыва советских войск?
В 1944 году немцы намеревались основательно отстаивать Оршу – важный железнодорожный узел. Свидетельством этому является то, что они начали сооружать мощные укрепления. Я помню четыре громадных котлована, которые они выкопали в разных местах. Два из них были вырыты между улицей Новый быт (теперь улица К. С. Заслонова) и теперешним стадионом «Локомотив». Котлованы были очень большие. Площадь каждого котлована была, примерно, 30х40 метров и метров 10 глубиной. В такой котлован мог бы поместиться двухэтажный бревенчатый жилой дом. В то время два-три таких дома ещё стояли на улице Новый быт. Может немцы так и хотели поступить: разобрать эти дома и собрать их в котлованах, присыпав землёй? Основание одного котлована было уже забетонировано. На дне были проложены рельсы, на которых стояла вагонетка для развозки бетона. Впоследствии, в эти громадные котлованы стали сбрасывать всякий мусор, хлам, которого хватало при расчистке завалов. Постепенно ямы засыпали, а на их месте построили жилые дома.
Мальчишки добывали ещё порох в матерчатых мешочках из немецких зенитных патронов для скорострельных пушек. Для этого нужно было головку снаряда засунуть в подходящую щель, расшатать аккуратно гильзу и снять её с головки снаряда. Из гильзы легко извлекались мешочки с порохом. Но больше всего ценился круглый порох. Это круглая «макаронина» сантиметров 30 длиной. Если такой порох поджечь с одного конца и подбросить, то во время горения вырывалась из сердцевины «макаронины» струя огня и дыма. Она начинала бешено летать то в одном направлении, то в другом, страшно шипела и брызгала искрами. Когда начались занятия в школе, то высшим хулиганским поступком было поджечь такую «макаронину» на уроке. Она летала по всему классу, ударялась в стены, шипела, брызгала искрами. Поднималась страшная паника. Девчонки и учительница визжали от страха, не зная, что делать и куда бежать. Мальчишки, которые знали, что ничего страшного не будет, «макаронина» сгорит и успокоится где-нибудь у стены. Нужно только внимательно следить за полётом и успеть уклониться, если порох летит в тебя. Автору шутки затем грозил обязательный разбор на педсовете, вызов в школу родителей (если они были) и угроза исключения из школы. Но это была только угроза, так как испорченных оккупацией и войной детей нужно было не выбрасывать на улицу, а перевоспитывать. Этим дело обычно и заканчивалось.
Однажды я вместе с моим товарищем Толиком Барташевичем (в первом классе мы сидели с ним за одной партой) решили запустить сигнальную ракету. Ракетницы (пистолета для запуска ракет) у нас не было. Решили запустить ракету подручными средствами. Проковыряли гвоздём дырочку в алюминиевом корпусе гильзы (что было само по себе очень опасно!), поставили её на пень в лесу, насыпали дорожку пороха для поджога. Я отошёл подальше, а Толик поджог порох. Не успел он полностью повернуться и сделать несколько шагов, как ракета взорвалась. Фейерверк был грандиозным! Я успел отвернуться, а Толик оказался боком к взрыву. Чудом наши глаза остались целы. Это был первый и последний мой эксперимент с ракетой.
Толик был интересным парнишкой. Выдумщик и изобретатель. Мы с ним дружили на протяжении многих лет.
 В самом начале войны он с матерью и сестрой эвакуировался из Орши. Вернулись они в Оршу вскоре после её освобождения. Жили Барташевичи в одном из домов для обслуживающего персонала на территории больницы. Этот большой многокомнатный дом построили немцы для своего госпитального персонала. В один из зимних дней 1945 года по вине Толика этот дом сгорел. Большой выдумщик, Толик изобрёл для дополнительного отопления электрическую печку, которая подключалась к проводке электроосвещения. Конечно, никакие правила пожарной и электробезопасности при этом не соблюдались. Десяток семей остались без крыши над головой и без своего имущества: пожар случился ночью. Хорошо ещё, что никто не погиб и не получил серьёзных травм.
В самом начале войны он с матерью и сестрой эвакуировался из Орши. Вернулись они в Оршу вскоре после её освобождения. Жили Барташевичи в одном из домов для обслуживающего персонала на территории больницы. Этот большой многокомнатный дом построили немцы для своего госпитального персонала. В один из зимних дней 1945 года по вине Толика этот дом сгорел. Большой выдумщик, Толик изобрёл для дополнительного отопления электрическую печку, которая подключалась к проводке электроосвещения. Конечно, никакие правила пожарной и электробезопасности при этом не соблюдались. Десяток семей остались без крыши над головой и без своего имущества: пожар случился ночью. Хорошо ещё, что никто не погиб и не получил серьёзных травм.
После войны, окончив школу, Толик работал слесарем в железнодорожном депо станции Орша. Он стал заслуженным рационализатором Белорусской ССР, Лауреатом Государственной премии БССР. Анатолий Антонович избирался депутатом Верховного Совета СССР, стал Почётным гражданином города Орша. Вот такой путь прошёл мой товарищ детства.
Серьёзная болезнь
Летом 1944 г. меня поразила серьёзная болезнь. Всё началось, казалось бы, с пустяка. Слегка заложило левое ухо, появился шум в ушах. Через день-два я пожаловался отцу на то, что плохо слышу, шум в ухе. Поднялась температура, стала побаливать голова. Закапали в ухо камфарное (очень вонючее!) масло, сделали компресс – не помогло. Положили в постель, состояние ухудшалось день ото дня. Появились сильные боли за ухом, голова раскалывалась, температура под 40. диагноз – воспаление среднего уха. Отоларингологов в Орше не было. Диагноз ставили и пытались лечить врачи других профилей, в том числе Лихачёв (к этому времени его с должности начальника больницы сняли за «связь с немцами», но он оставался главным хирургом). Начальником больницы был назначен другой врач, который не был в оккупации, но как специалист и как хозяйственник он и в подмётки не годился Лихачёву, но зато не подвергался пагубному влиянию немцев.
В то далёкое время никаких антибиотиков, доступных оршанским врачам, не было. Лучшее, что применяли для лечения воспалений, был белый и красный стрептоцид. Но ничего не помогало. Воспаление продолжалось. Была угроза, что образовавшийся нарыв что-то там прорвёт, и гной попадёт в мозг. Это означало либо самые тяжёлые последствия, либо конец. Я метался в полубреду от болей и высокой температуры. Помню, что делали мне успокоительные уколы, после чего я засыпал. Заставляли пить камфорное масло – более противного лекарства, по-моему, в мире не существует.
Через некоторое время температура несколько снизилась, но боли не отступали, хотя и сделались не такими острыми. Было решено показать меня специалисту по ушным болезням. Такой врач был только в Смоленске. Повезли меня туда мама и тётя Лариса. Как в то, ещё военное время, возили пассажиров, стоит рассказать. Ехать поездом нужно было целую ночь (это всего 80 км до Смоленска!) в теплушке: двухосном товарном вагоне. Внутри вагона слева и справа от дверей были сделаны скамьи, на которых сидели пассажиры. Вечером мы залезли в вагон. Две женщины (мама и тётя) с трудом уговорили пассажиров уступить место на скамейке у стены для больного ребёнка. Уложили меня, а сами прикорнули рядом. Мне запомнилась эта поездка. Поезд двигался очень медленно. Было холодно. Трясло и качало одновременно. По-многу часов стояли на станциях Шуховцы и Красное. Я лежал на левом боку лицом к стене вагона, то впадая в забытьё, то смутно ощущая происходящее. Утром наконец-таки добрались до Смоленска. Пошли искать больницу, где принимал больных врач отоларинголог. Вид у меня был примечательный: тепло одет, несмотря на тёплую погоду. На голове – повязка и шапка, а сверху наброшен шерстяной в большую клетку с бахромой серый плед. Этот плед накрывает меня с головой и почти волочится по земле. С одной стороны мама, с другой – тётя, и мы идём пешком по улицам разбитого и сожжённого города. Кругом одни развалины. Если Орша, в основном деревянная, сгорела, и остались одни печи, то в Смоленске много было кирпичных зданий, от которых остались одни коробки или развалины. Нашли больницу, долго сидели в очереди. Наконец, попали на приём. Пожилой врач, принимая больных, одновременно учил студентов. Он расспросил маму о болезни, посмотрел мои уши, потом мои уши смотрели по очереди человек десять студентов, слушая комментарии врача. Врач вставил трещотку в одно ухо, потом в другое, проверяя слух противоположного, и вынес заключение: необходима срочная операция для откачки накопившегося гноя. Я уже знал: операция – это значит, что будут сверлить череп, чтобы добраться до места воспаления. Я поднял такой крик и плач, что врач опешил вместе со своими студентами. Попытки успокоить меня не привели к успеху. Врач, наконец, сказал: «Езжайте домой, а когда будет совсем плохо, постарайтесь побыстрее приехать». Я понял, что операция откладывается, перестал кричать, а только ревел.
Мы отправились в обратную дорогу. Я успокоился, почувствовал себя лучше. То, что на моё странное и смешное одеяние встречные прохожие чуть ли не показывали пальцем, меня уже не очень волновало. На вокзале покушали. Еду брали с собой, так как в Смоленске в магазинах можно было купить кое-что из еды только по местным карточкам, а идти куда-то на рынок не было ни сил, ни желания. Тётя упросила проводницу проходящего пассажирского поезда взять нас до Орши, так как билеты достать не было никакой возможности. Через несколько часов были в Орше. Я уже бодро шагал домой. После этой поездки дело быстро пошло на поправку. Все, и домашние, и врачи гадали: в чём дело? То была критическая ситуация, и требовалась срочная операция, чтобы спасти жизнь – и вдруг, резкое улучшение. Я сам так объяснял произошедшее. Ещё перед поездкой организм мобилизовал все оставшиеся защитные силы. Возникла ситуация: или – или. Ночная длительная поездка, невыносимая тряска в вагоне, а затем посещение врача и полученный там мощнейший стресс, склонили чашу весов в пользу жизни. Организм стал побеждать болезнь. К началу занятий в школе я уже достаточно окреп, чтобы приступить к занятиям, хотя и в школе ещё месяца два ходил с повязкой на голове, о чём ужасно переживал. Мама изо всех сил старалась приготовить что-либо вкусное для меня (а в кулинарных делах она была большим мастером).
Жизнь налаживается
В 1944 году после нашего переезда в Оршу дела с питанием несколько улучшились. По карточкам стали иногда выдавать американские продукты, большинство из которых оказались очень вкусными, экзотическими. На первое место я бы поставил свиную тушёнку. Это был самый вкусный продукт той поры! Свиная тушёнка, которая продаётся сейчас (будь то наша белорусская, российская, китайская) ни в какое сравнение не идёт с той, военной поры. Яичный порошок (говорили, из черепашьих яиц) обычно использовали для приготовления омлета – вкуснейшее блюдо! Сухое молоко. Различные консервированные овощи: картофель, морковь, фасоль и прочее. Вкусные конфеты в круглых трубочках-коробочках. Солёные орешки арахиса, арахисовое масло. И многое другое. Конечно, выдаваемое на месяц количество продуктов, было мизерным. Их хватало всего на одну-две недели. Ещё по карточкам получали хлеб, крупу, иногда конфеты (без обёрток, слипшимся комом), очень редко немного сахара, комбижир. Если сюда добавить зелень с огорода, некоторые овощи, свой картофель, то уже получается довольно разнообразный рацион, хотя по объёму и маловатый. Чтобы получить хлеб по карточкам, нужно было каждые 2-3 дня занимать очередь в магазин и простаивать в очереди по многу часов, ожидая, когда привезут хлеб, а его на всех не хватало. Опоздал – остался без хлеба. В дни, когда отоваривались карточки, тоже нужно было занимать очередь заранее и подолгу ждать.
Проблема питания всё время была на первом месте и отнимала у всех много времени, так как нужно было ожидать привоза продуктов, чтобы отоварить карточки, очень долго стоять в очередях. Огород требовал постоянного ухода и охраны: ночью выращенный урожай мог исчезнуть.
Второй крупной проблемой было топливо. Работникам железной дороги (к ним относились и отец, и тётя, которая опять работала бухгалтером в конторе паровозного депо) было несколько легче, так как со склада топлива иногда удавалось выписать немного каменного угля или дров (которые нужно было пилить, колоть и сушить в сарае на зиму). Паровозы топили углём. На складе топлива, в принципе, уголь всегда был. Но выписать его и привезти домой было не просто. В Донбассе возобновили добычу угля, и через Оршу на север к Ленинграду постоянно шли эшелоны угля. Назад, порожняком, составы возвращались через станцию Орша-Западная. Из ребячьей компании я первый видел, как порожняк пыхтел на повороте, въезжал на станцию, где он останавливался для осмотра вагонов и смены паровоза. Я свистел условным сигналом, а в то время я мог так громко свистнуть в четыре пальца, что уши закладывало. Мои сверстники из домов посёлка, расположенных невдалеке от больницы, хватали мешки и бежали на станцию. Нужно было успеть к составу до того, как такие же собиратели угля с другой стороны железной дороги подбегут к прибывшему поезду. Мы быстро шли вдоль вагонов и со всех выступов, металлических полок вагонов ссыпали остатки застрявшего угля в свои мешки. Изредка рисковали по лесенке заскочить внутрь пустого угольного вагона. Там добыча могла быть очень весомой. Но тогда нужно было с тяжёлым мешком подняться по вертикальной лесенке внутри вагона и спуститься на землю до отправления поезда. Нас отгоняли от состава, но не из-за того, что мы собирали остатки угля, а из-за опасности нашего лазания по вагонам и под вагонами. Занятие это было рискованным, но всё обошлось. Никто из мальчишек не пострадал, не считая синяков и царапин. Все мальчишки тянули домой на плечах угольную добычу. Мой вклад в запас топлива на зиму был весомым. Только не пойму, как отец разрешал мне заниматься столь рискованным делом. Рядом в лесу было порядочно сухих елей, засохших от того, что в них попали крупные осколки. Отец договорился с лесником (думаю, что здесь дело не обошлось без спирта), что мы можем пилить сухие ели на дрова. Вдвоём мы валили громадные ели, очищали их от сучьев, пилили и на тележке возили домой. Тяжёлая это была работа! Дом был дырявый. Штукатурка на внешних стенах потрескалась и кое-где осыпалась. Шлак между досок осел. Под полом гулял ветер. Несмотря на то, что одно из двух окон в нашей комнате на зиму мы забили досками и между ними засыпали опилки, поддерживать зимой тепло в комнате было трудно. Плиту натопишь – вроде бы тепло, а утром в вёдрах, которые стояли в полутора метрах от плиты на скамейке, – слой льда. Что уж говорить об удалённых от плиты углах! Мёрзли зимой мы здорово и с нетерпением ждали тепла.
Снова в школе
В сентябре 1944 года я пошёл в школу сразу в четвёртый класс (второй и третий пропустил). А по возрасту должен был пойти в пятый. Никакой серьёзной подготовки за 2 и 3-ий классы у меня не было, хотя мама и пыталась меня кое-чему научить по арифметике и русскому языку. В первые 2-3 месяца занятий учебник, как правило, был только у преподавателя. Вначале я писал не в тетрадях, а на серой бумаге, разлинованной вручную. Бумагу царапал то карандашом, то корявым пером, макая его не в чернильницу, а в баночку с каким-то подобием чернил. Выброшенный из учёбы год очень мне дорого стоил в будущем. Пойди я в пятый класс, а не в четвёртый, то всё равно не отставал бы в развитии и в учёбе от других учеников. Как в четвёртом, так и в пятом классах выделялись вначале только те ученики, которые приехали в Оршу из тыла (у них не было пропусков в учёбе, были кое-какие учебники и школьные принадлежности). Записали меня в ту же школу №37, где работала мама. Это сыграло как положительную, так и отрицательную роль.
Школа была кирпичная, но отапливалась дровами и углём, от чего частенько было угарно в классах. Классы большие в три окна. После немецкого госпиталя школу несколько месяцев приводили к пригодному для учёбы виду. Вся школьная мебель была немцами разломана и сожжена. Никакого школьного имущества не осталось. Столы и скамейки, на которых мы сидели по четыре человека целых пять лет не соответствовали никаким гигиеническим нормам. Освещение в тёмное время было электрическим. Посреди класса с потолка на проводе свисала электрическая лампочка, которая горела чаще всего в полнакала. А иногда вообще электричества не было. Электростанция в Орше была уничтожена немцами. Осинторф (первенец электрофикации СССР) ещё не был восстановлен. Электроэнергию вырабатывала расположенная в железнодорожном вагоне электростанция американского производства, турбину которой крутил пар от паровоза, стоящего рядом. Так как электроэнергии не хватало (особенно в осенне-зимний период), то жилой посёлок часто отключали, или подавали вместо 220 вольт 120. при этом лампочки горели в полнакала. В больнице, а значит и у нас дома, тоже часто отключали электросеть. Розетки в домах устанавливать не разрешали, чтобы не пользовались электронагревательными приборами. Поэтому умельцы подключались нелегально, часто неправильно (Толик Барташевич таким образом сжёг целый дом на территории больницы). В ходу были (продавались на базаре) электропатроны для лампочек, в которых были просверлены два сквозных отверстия. В эти отверстия вставлялись две медных трубочки, которые подключались внутри патрона к проводам. К патрону приклеивался цоколь от электролампочки. Эта конструкция вворачивалась в обычный патрон для электролампочки. Через трубочки можно было подключить к электросети электроплитку, радиоприёмник и пр. Удобная штука! У меня такое устройство сохранилось и используется иногда в хозяйстве.
 Если контролёры обнаруживали самовольное подключение к электросети, то следовал солидный штраф. Электросчётчиков почти ни у кого не было. Электросеть была вечно перегружена. Напряжение в ней, в лучшем случае, едва достигала 200 вольт. В таких условиях учёбы зрение у детей портилось очень быстро.
Если контролёры обнаруживали самовольное подключение к электросети, то следовал солидный штраф. Электросчётчиков почти ни у кого не было. Электросеть была вечно перегружена. Напряжение в ней, в лучшем случае, едва достигала 200 вольт. В таких условиях учёбы зрение у детей портилось очень быстро.
Учебников не хватало. Хорошо, если на класс в 25-30 человек было 2-3 учебника по предмету. У меня учебники были чаще, чем у других учеников, так как мама всякими правдами и неправдами старалась достать дефицитные учебники. Настоящих ученических тетрадей не было. У некоторых учеников были самодельные тетради, сшитые нитками из листов бумаги. Кто-то подарил мне толстую (листов на 60) тетрадь в линейку, одну часть которой я использовал для русского языка, другую – для арифметики, третью – для белорусского языка и т.д. Это было здорово! А многие ученики писали в тетрадях, сшитых из газет. Писали между печатных строчек и на полях. А писали чем!
Ручки-макалки со стальными перьями были далеко не у всех. Чернильницы-невыливайки, бутылочки, баночки для чернил каждый носил с собой (зимой — в обязательном порядке, так как за ночь чернила замерзали). В качестве чернил обычно использовался мелко истёртый химический карандаш, растворённый в воде (чтобы избавиться от крупинок карандаша в чернилах, я такой раствор кипятил). На плохой бумаге (особенно газетной) такие чернила расплывались так, что порой невозможно было узнать, какая буква написана. Никаких наглядных пособий в школе не было. На всю школу была одна учебная карта двух полушарий Земли. Ко мне домой, как обладателю многих учебников, приходили ежедневно несколько человек, чтобы готовить уроки. Иногда учебники они забирали с собой, а на следующий день приносили в школу. Частенько, просто списывали домашние задания.
Для поддержания детей в школе каждый день выдавали кусочек чёрного липкого хлеба и примерно чайную ложку сахара, который высыпали на бумажку. Для многих это было желанным лакомством и дополнением в питании, которое не отличалось разнообразием. Но находились маленькие негодяи (один, два на класс, из обеспеченных семей), которые норовили зацепить или нагло толкнуть под руку ученика, который нёс бумажку с сахаром и кусочек хлеба. При этом ехидно улыбались, стараясь показать, что всё произошло случайно. Из своей порции хлеба они скатывали маленькие шарики, слюнявили их и стреляли через трубочку от ручки для письма, стараясь попасть в лицо очередной «жертве». Тогда в моде были такие ручки: с одной стороны трубочки имелась металлическая затычка с карандашом – огрызком, а с другой – затычка с пером. Не было хлеба – стреляли жёваной бумажкой. В нашем классе был такой негодяй Якушев, посредственный ученик. Никакие увещевания на него не действовали, а поколотить его было некому, так как он был в друзьях с ребятами, готовыми защитить его. Носил он через плечо на ремешке полевую кожаную офицерскую сумку для тетрадей и учебников, чем вызывал зависть многих учеников.
Учился я в четвёртом классе на «хор.» и «удовл.» (тогда такие были оценки), не выделяясь на фоне остальных учеников, которые после нескольких лет перерыва в учёбе сели за школьные парты (точнее, столы). Ученики были одеты кто во что. Осенью я носил какие-то потрёпанные ботинки, зимой ватные бурки с бахилами, склеенными из автомобильных камер. На улице ноги в них быстро замерзали, а в помещении – очень потели. Дома эту обувь нужно было обязательно просушивать. На эту обувь привязывать коньки было одним мучением, но, тем не менее, частенько катались на льду замёрзшего болота или просто по укатанной дороге. Появились у меня лыжи с поломанными металлическими креплениями, к которым нужно было умудриться присоединять скользкие бахилы с бурками. Но с горок удавалось азартно кататься.
Прошёл учебный год и меня перевели в пятый класс.
Наше материальное положение, хотя и очень медленно, но постоянно улучшалось. На зарплату отца и матери по карточкам можно было приобретать кое-что из одежды. Питание по сравнению с годами оккупации тоже улучшилось и разнообразилось за счёт американских продуктов (эти продукты Америка продавала Советскому Союзу за золото). Свой огород и куры пополняли рацион. Завели свинью, которая жрала столько же, сколько мы впятером, правда, не таких ценных продуктов. Однажды десяток кур мы обнаружили мёртвыми на полу курятника с перегрызенными шеями. Это постаралась ласка, которая ночью пробралась в курятник. Горе мамы было безмерно.
После освобождения Орши начались интенсивные поиски родственников. Мы писали письма по довоенным адресам, которые помнили. Нам же родственники и знакомые писали, указывая адрес: «Паровозное депо станции Орша, Карпу А. А.». В депо, практически, все знали Карпов, и письма передавали нам. Каждое полученное письмо вызывало радость, но были и печальные новости.
 Прислал письмо с фронта брат отца Георгий. Он, как и отец, окончил в 1914 году Лефортовскую военно-фельдшерскую школу в Москве. Служил он в санитарных частях и в Первую мировую войну, и в Великую Отечественную войну. Кстати, в семейном архиве сохранилось «Свидетельство» об окончании отцом этой школы.
Прислал письмо с фронта брат отца Георгий. Он, как и отец, окончил в 1914 году Лефортовскую военно-фельдшерскую школу в Москве. Служил он в санитарных частях и в Первую мировую войну, и в Великую Отечественную войну. Кстати, в семейном архиве сохранилось «Свидетельство» об окончании отцом этой школы.
Получили с фронта письмо от дяди Володи Шульга, маминого брата. Он был ранен, лежал в госпитале. Уже в 1945 году он писал нам из Австрии, и присылал мне немецкие карты, разрезанные на куски величиной с тетрадный лист. Отпечатаны карты были на очень хорошей бумаге: с одной стороны – карта, с другой – чистый лист. Я из них шил отличные тетради, использовал их для письма и рисования.
Объявились многочисленные московские родственники. Тётя Валя, сестра отца, жила в подмосковном посёлке Баковка. Её сын Володя воевал недолго: был ранен и лишился ноги…
Каждое полученное письмо было радостным событием. Во время оккупации нам так недоставало весточек от родных и знакомых!
Мы с нетерпением ждали сводок с фронта. Искренне радовались успехам нашей армии. У нас в комнате появилась радиотрансляционная точка. Большой (50 см в диаметре) репродуктор висел на стене и очень тихо вещал. Иногда, во время интересной детской передачи приходилось забираться на стол и подставлять к нему ухо, чтобы лучше слышать.
С фронта приходили вести всё более радостные. Война приближалась к концу. Бомбёжек после ухода немцев не было. Один раз, вскоре после нашего переезда из Берестенево в Оршу, был робкий ночной налёт немцев на железнодорожный узел станции Орша. Но они встретили мощный огонь средств ПВО и больше не прилетали. Это был не 1941 год!
Восьмого мая 1945 года ночью мы услышали интенсивную беспорядочную стрельбу из винтовок, пулемётов, пистолетов. Выскочили на улицу. В ночном небе светились ракеты, трассирующие пули. Стреляли везде, где располагались воинские части. Стало понятно, что произошло что-то серьёзное. На улицу повыскакивали все жители посёлка. Прокатился слух: ВОЙНА ОКОНЧЕНА! Ликованию не было предела. Конечно, в эту ночь никто уже не спал. Все поздравляли друг друга с долгожданной ПОБЕДОЙ.
Но впереди была ещё долгая череда лет, заполненная и радостями и печалями.
Благодарю моих внучек Ольгу Дмитрович и Веронику Карп за оказанную помощь в работе над этой статьёй.
Март 2013 года
В. Карп